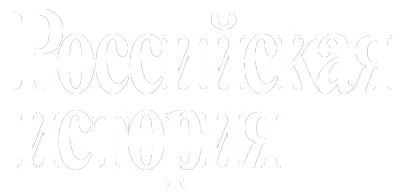Отклик на материал «Влияние коллективизации на судьбы России в XX в.» (№4/2018)
Справка об авторе: Василий Петрович Попов – доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры новейшей отечественной истории Института истории и политики Московского педагогического государственного университета
Споры о коллективизации
Василий Петрович Попов – доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей отечественной истории Института истории и политики Московского педагогического государственного университета (МПГУ)
Коллективизация сельского хозяйства относится к числу эпохальных событий отечественной истории XX века, а её историография огромна. В годы перестройки одни учёные видели в ней закономерный этап развития советского общества, связанный с социалистическим переустройством хозяйственного быта российской деревни, другие рассматривали её исключительно через призму сталинской «революции сверху» – насильственной и беспощадно-репрессивной по отношению к среднему и зажиточному крестьянству. Затем появились другие направления исследований. Как это нередко бывает в отечественной историографии, интерес к проблеме и её актуализация связаны с юбилейными датами. Вот и в наши дни, в преддверии 90-летия начала коллективизации, журнал «Российская история» опубликовал программную статью историка В.В. Кондрашина[1], которая почти сразу получила суровую отповедь на страницах «Форума учёных-историков»[2]. В частности, недовольство вызвала позиция автора, который считает, что «у сталинской коллективизации не было и не могло быть альтернатив».
Вопрос об альтернативности, на мой взгляд, был порождён сменой методологических установок, проходивших у отечественных историков весьма болезненно. На смену марксистским постулатам о «материальных производительных силах общества», которые однозначно определяют «производственные отношения» и всю «надстройку», пришли новые концепции. Среди них – исторической альтернативности, чьи сторонники полагают, что в переломные моменты истории всегда существуют разные варианты развития страны, имеющие шанс на реализацию, поскольку их выражают политические лидеры и они имеют достаточную социальную поддержку в обществе. Особую актуализацию данная концепция приобрела в связи с изучением нэпа и «бухаринской альтернативы» сталинской насильственной коллективизации, а также в связи с распадом СССР. В развёрнутом виде она представлена в работах американского историка С. Коэна[3]. Среди отечественных историков её последователем являлся известный учёный-«аграрник» В.П. Данилов, рассматривавший нэп в качестве не только политической, но и социально-экономической альтернативы развития страны в противовес сталинской модели.
Поскольку мне уже приходилось писать на эту тему[4], вкратце повторю свои наблюдения. В ранней работе, посвящённой изучению материально-технических предпосылок коллективизации, Данилов пришёл к на первый взгляд парадоксальному выводу: «Темпы социальной реконструкции сельского хозяйства намного обгоняли темпы технической реконструкции, [а] устройство социально-экономических отношений в деревне было завершено намного раньше, чем техническая реконструкция сельского хозяйства»[5]. Следовательно, вопреки марксистской аксиоме, политика предшествовала экономике и материально-технические предпосылки коллективизации, если называть вещи своими именами, отсутствовали. Имела место обычная для большевиков со времён октября 1917 г. стратегия «забегания вперед». Однако, несмотря на бесспорный вывод, подтверждённый многочисленными статистическими выкладками, Данилов в той же работе утверждал, что среди главных факторов, обусловивших переход к политике сплошной коллективизации, важное место «принадлежало несоответствию буржуазных производственных отношений общественному характеру новых производительных сил, которое начало возникать в сельском хозяйстве накануне его социалистического преобразования»[6].
Значит, объективные предпосылки коллективизации всё-таки существовали. Но это ещё не отвечало на вопрос, почему вместо бухаринской партия предпочла сталинскую модель. А именно ответ на него позволял понять подоплёку событий, объяснить выбор руководства страны. Чтобы из абстрактных «материальных производительных сил» создать материально-техническую базу колхозов, требовались капиталы, которыми большевики не располагали. Ими обладали средние и зажиточные крестьяне («мелкая буржуазия» или «кулачество», по марксистской терминологии), которые сберегали их и вкладывали в развитие своих хозяйств. Таким образом, производственные отношения внутри доколхозной деревни являлись не продуктом «материальных производительных сил», а наоборот, реальным источником и условием их появления.
Понимая это обстоятельство и стараясь не цепляться за марксистскую схему, противоречившую очевидным фактам, Данилов затем скорректировал прежний вывод: «Новая материально-техническая база для сельского хозяйства должна была создаваться в ходе сплошной коллективизации и после её развёртывания. Техническая и социальная реконструкция сельского хозяйства развёртывалась одновременно (курсив мой – В.П.)»[7]. Вопрос о предпосылках снимался с обсуждения и исследовательский акцент смещался на изучение характера коллективизации: «“Великий перелом”, о котором Сталин объявил в ноябре 1929 г., не имел ничего общего с действительностью социально-экономического развития – ни с якобы огромным ростом производительности труда в промышленности, ни с возникшим будто бы массовым колхозным движением в деревне»[8].
Суммировав выводы из работ Данилова разных лет, читатель так и не получил ответа на вопрос: существовали ли у коллективизации сельского хозяйства материально-технические предпосылки? Это нельзя объяснить эволюцией взглядов учёного, чьи труды в советское время ограничивались идеологическим контролем партии. Существо проблемы, видимо, заключается в отсутствии – до сих пор! – приемлемой концепции[9], объясняющей феномен коллективизации. Отметим несколько особенностей современной историографии. Во-первых, к пересмотру теоретического багажа прежних лет приступили историки, которые были учениками Данилова и других известных «аграрников» его круга (Н.А. Ивницкого, И.Е. Зеленина, М.А. Вылцана, В.В. Кабанова). Этот процесс неизбежен и начался ещё при жизни названных историков. Во-вторых, новое поколение историков в своих выводах не было, как правило, отягощено прежним «советским багажом». При этом свой теоретические наработки они ещё не оформили в виде самостоятельной концепции, а отсюда пёстрая смесь в их трудах старого и нового.
Изучение осложняется тем, что коллективизация – политико-экономическая проблема, где фактор заинтересованности является чрезвычайно важным для результатов крестьянского труда. Однако, учитывая природу советской системы, где политическая структура и соответствующая идеология задавали тон другим характерным признакам (отношениям собственности, механизмам регулирования и пр.), становится понятно, почему Кондрашин привёл достаточно распространенный тезис о том, что главным для коллективизации был «внутренний фактор – победа сталинской группировки в борьбе за власть». И дело здесь даже не в смешении «объективных» и «субъективных» факторов, как полагают его критики. Сама постановка вопроса о том, что у коллективизации не было и не могло быть альтернативы помимо сталинского варианта, представляется формальной. Альтернатива – всегда выбор из двух или нескольких вариантов. Он есть всегда и зависит от воли индивида. Задача историка – не распределение факторов по ящичкам с наклейками «объективные» и «субъективные». Такой подход позволяет, отнеся тот или иной фактор к объективным, придать ему характер неизбежности (как тут не вспомнить знаменитое выражение Маркса о том, что социализм обязательно наступит «с неумолимостью закона природы»). Тем самым историк – хотел он этого или нет – избавлен от необходимости доказывать свою точку зрения, т.е. избавлен от своей главной задачи – интерпретации исторических событий и фактов.
Поясню на примере. Многие историки относят природно-географический фактор (климат и почвы) к объективным. Однако человек – существо не только мыслящее, но и действующее. За тысячелетнюю историю России мужик приспособился к этому фактору, создал систему защиты, поэтому для крестьянина он стал такой же обыденностью, как и другие факторы производства. Только в условиях форс-мажорных обстоятельств, например, голода 1601–1603 гг., природный фактор одолел защитную систему и решающим образом повлиял на события в стране, вызвав Смуту. Однако в 1928–1930 гг. погодные условия, включая засуху во многих регионах страны, не выходили за пределы привычного. Крестьянство преодолело бы эти трудности. Более того, мужик справился бы даже с раскулачиванием, ведь в 1930 г. в сельском хозяйстве оставался ещё немалый частный сектор, т.е. существовала основа для восстановления крестьянского слоя самостоятельных хозяев, пусть даже это заняло бы длительное время. Однако принудительные хлебозаготовки вызвали голод – результат целенаправленной государственной политики. Именно это сломало хребет самостоятельно хозяину.
Принятый в исторической науке термин «коллективизация», по мнению большинства современных историков, не отражает ни сути процесса насильственного слома тысячелетнего хозяйственного уклада деревенской России, ни характера созданной колхозной системы. Коллективизация не решила главную проблему, которая стояла перед сталинским руководством, – зерновую. За годы советской власти были испробованы различные формы, методы и средства управления деревней и развития общественного производства (от массового террора до вложения крупных инвестиций и попыток материально заинтересовать колхозников в результатах труда), но дефицит продуктов питания в стране никогда не исчезал. На основе этого бесспорного факта попробуем определить, каковы были действительные цели аграрной политики большевиков и что из себя представляла колхозная система, ставшая главным детищем этой политики. Подчеркнём, ни одна инициатива или мероприятие, ни одно даже самое незначительное изменение в жизни села не совершалось без ведома центральной власти – только по партийной директиве.
К настоящему времени опубликованы многотомные сборники ранее засекреченных документов, посвящённые коллективизации, что позволяет подробно изучить все стороны проблемы. Однако для приверженцев теории модернизации основополагающим является тезис о том, что именно коллективизация стала главным условием перехода страны от аграрного к индустриальному обществу. Они утверждают, что своей революционной политикой в деревне большевики лишь ускорили процесс исторического перехода от старого к новому, поскольку были убеждены в необходимости индустриализации не только промышленности, но и сельского хозяйства. Создание колхозов на основе индивидуальных крестьянских хозяйств и за счёт их имущества и накоплений сопровождалось насилием и оказало огромное влияние не только на экономическую, но и на социальную сферу, а также на систему власти, которая росла и крепла по мере того, как деревня усиливала сопротивление. Эти историки также отмечают, что перемены, вызванные ожесточенной борьбой между властью и деревней, породили сталинскую диктатуру. Власть старалась действовать так, чтобы в необходимых случаях с помощью различных уловок снижать социальное напряжение. По выражению М. Левина, состояние сельского хозяйства представляло «драматический пример вышедшей из-под контроля модернизации». Он подчёркивал, что внутреннее состояние деревни характеризовалось сохранением консервативных черт и прежнего патриархального образа жизни, а из-за «бегства сельского населения в города» урбанизация стала носить «деревенский характер». Всё это, по его мнению, давало основание считать, что советская Россия накануне Второй мировой войны «не была значительной промышленной силой»[10].
С некоторыми оговорками приведённые выше оценки доминируют в современной зарубежной и отечественной литературе. Акцент на объективный характер коллективизации позволяет учёным утверждать, что «иного не дано» стране, имевшей давние исторические традиции проведения аграрных реформ исключительно «сверху». Тем самым, пусть и в неявном виде, ставится знак равенства между аграрной политикой царской и советской России.
В последнее время также становится популярной точка зрения, согласно которой в XIX–XX вв. власть была занята поисками «наиболее оптимальных путей реформирования сельского хозяйства»[11], что подразумевает, будто первоочередной целью аграрных реформ было решение проблем экономического и социального развития деревни. По моему мнению, это далеко не так. Толчком к реформам были неудачные войны – Крымская, русско-японская, Первая мировая, – вызвавшие и глубокий политический кризис, и рост крестьянских выступлений. Факты свидетельствуют, что в сложившихся условиях усилия власти были направлены на достижение компромисса с деревней. При этом власть стремилась отстоять свои интересы и интересы тех социальных групп (в первую очередь, земельной аристократии и поместного дворянства), которые являлись её главной опорой. Это обстоятельство объясняет и компромиссный характер земельной реформы Александра II, и то, что из всех проектов аграрных реформ начала XX в. был выбран наиболее консервативный столыпинский вариант. Не менее показателен и советский опыт, о чём будет сказано ниже.
Мне представляется, что определение коллективизации как модернизационного процесса (даже с оговорками Левина) противоречит тому очевидному факту, что с точки зрения социального развития села это был не скачок вперед, а падение в пропасть, из которой крестьянству так и не удалось выбраться. Если рассматривать этот процесс через призму индустриального развития – замену массы мелких и средних крестьянских хозяйств «крупным производством колхозов», основанным на применении сложных сельхозмашин, включая тракторы, – следует признать, что качественных перемен не произошло, поскольку правительство так и не решилось предоставить колхозам сельскохозяйственную технику, а передало её государственным предприятиям (МТС). Это был не случайный выбор, продиктованный обстоятельствами, а вполне обдуманное решение. Правительство не было убеждено, что в равных условиях хозяйствования колхозы будут действовать эффективнее частника, и не хотело рисковать.
Как известно, советская власть навсегда отменила «всякую собственность на землю в пределах РСФСР», т.е. не только на конфискованную помещичью, но и на крестьянскую. Тем самым она взяла на себя организацию хозяйственного освоения всей земли, объявленной «общенародной», а по сути – государственной. Законом также устанавливалась потребительно-трудовая норма землепользования для всех граждан, обрабатывающих землю своим трудом. Как писал современник событий, выдающийся экономист-аграрник Л.Н. Литошенко, при существовавшей в России 1917 г. пестроте распределения разных по размерам участков земли между отдельными пользователями, это «была грандиозная, по существу своему невыполнимая задача»[12]. Поскольку расчёты на «стихийный крестьянский социализм» не оправдались, Ленин объявил крестьянскую «мелкобуржуазную стихию» врагом социализма и сделал ставку на бедноту как главную опору в деревне. Однако «уравнительность господствовала только в дележе награбленного. Ни о каком общем “поравнении” деревня не мечтала. Захваченные земли считались “завоеванием революции”, которым она не хотела делиться ни с кем». Он также отмечал, что «первым и главным итогом аграрного движения 1917–1918 гг. … явилось полное уничтожение крупного хозяйства»[13].
Однако классовую борьбу в деревне разжечь не удалось, провалились и попытки широкого распространения социалистических форм (советские хозяйства, коммуны и артели), а продовольственная диктатура привела к массовым крестьянским восстаниям. В аграрной стране власть нуждалась в поддержке сельского населения и пошла на союз со «средним крестьянством». Но власть также нуждалась и в хлебе – а с отменой продразверстки это превращалось в главную проблему. Дело в том, что экономические интересы крестьян и политические цели правительства в деревне не совпадали, а потому рано или поздно власть должна была вернуться к прежней форме взаимоотношений с деревней – государственному принуждению.
В своей статье Кондрашин повторил прежний тезис о том, что она носила «не случайный характер» и представляла собой «процесс создания крупного коллективного хозяйства» индустриального типа, сохранившего свое положение в качестве ведущей формы сельскохозяйственного производства и в современной России. Также отмечается, что этот путь «диктовался объективными условиями существования», в особенности природно-географическим фактором. При этом автор вынужден признать, что главная задача – «накормить страну» – оказалась колхозной системе не по плечу[14]. Если это так, то чем можно объяснить, что советская власть до конца упорно держалась за систему, которая, несмотря на все реформы, оставалась неэффективной? Очевидно, корень проблемы заключался в том, что политическая цель – господство правящего слоя (советской бюрократии) над населением страны – оказывалась важнее всех проблем и недостатков. Это, в свою очередь, порождало непрерывную череду кризисов, какой бы период отечественной истории мы не взяли. Реформы (хрущёвская, брежневская, горбачёвская) лишь доказывали простую истину – без отмены мобилизационной модели советской экономики невозможно нормальное экономическое развитие.
Сторонники теории модернизации в подтверждение «объективного характера коллективизации» любят прибегать к ещё одному аргументу – военной угрозе СССР в начале 1930-х гг., которую они считают «вполне реальной». Их логическая конструкция выглядит следующим образом. В условиях надвигавшейся Второй мировой войны фактор времени играл едва ли не решающую роль, и индустриализацию следовало проводить как можно быстрее, чтобы ускорить создание оборонной промышленности. Поскольку капиталы имелись только у зажиточной части деревни, их необходимо было изъять в ходе раскулачивания, не останавливаясь перед насилием. По моему мнению, однако, никакой непосредственной угрозы со стороны Германии или Японии в начале 1930-х гг. не существовало. В источниках отсутствуют доказательства планов нападения на СССР со стороны указанных государств. Одному из активных организаторов коллективизации В.М. Молотову приписывают следующие слова: «Я считаю успех коллективизации значительней победы в Великой Отечественной войне. Но, если б мы её не провели, войну бы не выиграли»[15]. «Безупречная» логика. К этому можно добавить только одно: катастрофические поражения Красной Армии летом 1941 г., позволившие немцам за четыре с половиной месяца дойти до Москвы, своими причинами имеют не только превосходство в военном искусстве, но и миллионные жертвы массовых репрессий и голода 1932–1933 гг., которые были прямым следствием коллективизации. Антисоветские и пораженческие настроения присутствовали не только в солдатской среде, но и среди гражданского населения[16], они особенно усилились в связи с началом войны. И это тоже итог коллективизации.
По моему мнению, историки придают слишком большое значение спорам, которые велись в 1920-е гг. в среде большевистской верхушки по проблемам индустриализации. Я считаю ошибочными суждения о том, что сталинская оппозиция стремилась разработать «разумную экономическую политику», которая на практике дала бы возможность стране пойти по «другому пути». При всех разногласиях о путях, способах и методах построения социализма ни левые коммунисты, ни правые, ни лавировавший между двумя лагерями товарищ Сталин со своей «генеральной линией» не считали возможным отказаться от практики государственного регулирования хозяйства. Никто из большевистского руководства, помня ленинские заветы держать в своих руках «командные высоты» в экономике, не собирался предоставлять полную свободу частным капиталам и предпринимательской инициативе. При сохранении подобной практики капитал избегал рисков и производство не росло, поскольку отсутствовали стимулы для его развития.
В России существовала плеяда блестящих экономистов мирового уровня (Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов, А.Н. Челинцев, Н.П. Макаров, Л.Н. Литошенко), которые предлагали научно обоснованные проекты сбалансированного развития народного хозяйства страны с учётом расширенного воспроизводства крестьянских хозяйств. В 1927 г. Кондратьев подверг критике варианты проекта плана первой пятилетки, разработанные Госпланом. Он указал на главное противоречие: отсутствие согласования показателей потребления, экспорта сельхозпродуктов и их производства, когда рост одних элементов плана делал невозможным «принятый рост других», что свидетельствовало о нереальности всего плана индустриального развития страны[17].
Коллективизация позволила не только решить проблему накопления средств для индустриализации и избежать в дальнейшем хлебозаготовительные кризисы, но и создать специальный механизм – колхозную систему, которая обеспечила государству ежегодные гарантированные поставки хлеба и другой сельхозпродукции по низким ценам. Эта система имела несколько базовых элементов: обязательные поставки по произвольным (заниженным) ценам; принудительный труд без полноценной оплаты по трудодням; личное бесправие и прикрепление к колхозным работам, оформленные Уставом сельхозартели и паспортной системой; репрессии в отношении всех крестьян, объявленных «кулаками». Остановимся на некоторых сюжетах чуть подробнее.
Устав сельхозартели определял следующий порядок распределения колхозного урожая: выполнение всех обязательств перед государством, натуроплата за работы МТС, создание колхозного семенного фонда и, в последнюю очередь, выдачи колхозникам в форме натуральной оплаты по трудодням (оценка работы в зависимости от её вида и сложности). Таким образом вводился остаточный принцип оплаты труда в колхозе и нередкой была ситуация, когда после всех расчётов с государством платить было нечем.
Размеры поставок определялись исходя из площади сельхозугодий и пашни, закреплённой за артелью. Никакие изменения в условиях хозяйствования – неблагоприятные погодные условия, гибель трудоспособных колхозников на войне и пр. – в расчёт не принимались. Задолженность колхозов перед государством по обязательным поставкам переходила на следующий год; чтобы её списать, требовались ходатайство местных земельных, советских и партийных органов и специальное распоряжение правительства. Заготовительные цены не восполняли колхозам даже половину себестоимости сельхозпродукции и не пересматривались десятки лет. Перед войной через обязательные поставки из хозяйств изымалось около 40% фактического урожая; объёмы поставок непрерывно росли. Другая часть продукции изымалась в форме оплаты за работы МТС. Дополнительным способом изъятия была «видовая урожайность» (урожайность на корню, т.е. перед началом уборки), а не фактические сборы зерна. Низкая степень механизации сельскохозяйственных работ и отсутствие надёжных хранилищ повышали потери зерна при уборке, но это также не влияло на установленные объёмы изъятия. Как выразился по этому поводу нарком земледелия СССР Я.А. Яковлев, «надо устанавливать, не что забирать, а что оставлять».
Устав сельхозартели разрешал оставлять в единоличном пользовании приусадебную землю (огороды, сады и пр.), размер которой, как правило, колебался от 0,25 до 0,5 га, корову и некоторое количество мелкого скота. Именно приусадебное хозяйство стало едва ли не основным источником питания сельских жителей. Но крестьянский двор (колхозный и единоличный) должен был платить государству натуральный налог в форме обязательных поставок сельхозпродуктов. Помимо него с личных хозяйств взимался денежный сельскохозяйственный налог (с 1939 г. – по прогрессивным ставкам, в зависимости от размера дохода в личном хозяйстве). В условиях натурального хозяйства (в большинстве колхозов отсутствовала денежная оплата труда) двойной налог на личные подворья (натуральный и денежный) вынуждал колхозников продавать на рынке продукты, необходимые для собственного потребления.
Хотелось бы ещё раз подчеркнуть следующее обстоятельство. Закрепив за колхозами землю «в бессрочное пользование, то есть навечно», государство решало совсем не земельный вопрос – который со времен «военного коммунизма» был второстепенным. Колхозы как производственные коллективы были прикреплены к земле, а их члены – к колхозным работам. И весь этот заколдованный круг, из которого бывшему крестьянину было почти невозможно вырваться, создавался с единственной целью – попытаться решить продовольственный вопрос. При этом экономические интересы селян полностью игнорировались. Однако хозяйственная природа мужика за века не изменилась: всё, что давало ему выгоду, было благом, всё, что ограничивало его самостоятельность и сокращало производство – злом[18]. Как он мог отказаться от своих внутренних убеждений и пойти трудиться в колхозы? Однако в отличие от периода осени 1917 – лета 1918 г., на рубеже 1920–1930-х гг., после ряда «хлебных стачек», советская власть уже не заблуждалась в отношении хозяйственных устремлений деревни. К тому же она укрепилась и накопила достаточно сил, чтобы больше не повторять прежнюю двойственную политику заигрывания и принуждения, сделав окончательный выбор в пользу насилия.
В этом нас убеждают документы. В 2016 г. увидел свет сборник, посвященный хлебозаготовкам[19]. По моему мнению, в научном отношении он представляет собой одно из самых ярких достижений исторической науки последних трех десятилетий – и по значимости описываемого явления, и по богатству и уникальности источников (преимущественно документов ЦК ВКП(б). С предельной откровенностью показано как цинично, целенаправленно, изобретательно и неумолимо сталинское руководство проводило в отношении восставшей против государственного произвола и грабежа деревни политику «воспитания голодом». Никаких случайностей, «отклонений» или нерешительности в этой политике не было: показаны главные инициаторы и активные исполнители, методы, приёмы и способы изъятия хлеба. Сквозь документы красной нитью проходит установка – «мы были правы». Итогом стала, выражаясь на партийном лексиконе, «победа колхозной и совхозной системы хозяйства над системой единоличного хозяйства». Эта «победа» обошлась стране примерно в 7 млн человеческих жизней, унесённых голодом[20].
В 1932 г. была введена паспортная система, которая фактически не распространялась на большую часть деревенских жителей (паспорта в сельской местности выдавались только в совхозах и на территориях, объявленных «режимными»). Формально при перемене места жительства колхозники могли получить паспорт; на деле эта процедура содержала множество ограничений (основная часть правительственных решений в этой области носила секретный характер и не была известна населению). Колхозы были лишь пунктами прикрепления людей, паспортная система сделала возможным само прикрепление[21]. Показательна резолюция, которую Сталин наложил на поступившее ему в апреле 1935 г. предложение наркома внутренних дел СССР Г.Г. Ягоды и прокурора СССР А.Я. Вышинского о «быстрейшей очистке городов от уголовных и деклассированных элементов»: «“Быстрейшая” очистка опасна. Надо очищать постепенно и основательно, без толчков и излишнего административного восторга»[22]. В этих словах виден привычный уже бесчеловечный подход к людям: индустриализация и коллективизация расширялись, вызывая противодействие населения, поэтому численность «врагов народа» (точнее, советской власти) росла. Паспортная система, помимо указанных целей, также помогла властям разделить население на «чистых» (город) и «нечистых» (село), т.е. прямо или косвенно определила судьбу каждого взрослого жителя страны.
Как отмечается в современной литературе, процесс раскрестьянивания в XX веке превратился в общемировую тенденцию и сопровождался ростом производства продовольствия и численности мирового населения при сохранении глобального неравенства в уровне жизни[23]. Значит ли это, что при переходе от мелкотоварного хозяйства к крупному, обеспечивающему расширенное воспроизводство, социальная дифференциация и социальные конфликты неизбежны и, следовательно, сталинская коллективизация являлась закономерным процессом? Мой ответ – отрицательный.
Когда в стране отсутствовала частная собственность на средства производства (землю, банки, предприятия и т.п.), а вся производственная деятельность осуществлялась из единого центра согласно государственным планам, имеющим силу закона, когда отсутствовали рынок и рыночные цены на средства производства (включая землю), что делало невозможным экономический расчёт, когда свободное предпринимательство было под запретом, тогда напрасны были усилия и надежды на то, что реформы способны что-либо кардинально изменить, потому что базовые элементы системы оставались прежними[24]. Государство неизменно определяло, что должно производиться в стране, в каком количестве и какого качества, кем, где и как. Конец такой системы был неизбежен.
Однако её узнаваемые черты сохранились и по сей день. Произошло замысловатое переплетение советского аграрного наследия с современным государственным капитализмом. Государство по-прежнему держит «командные высоты» и в промышленности, и в аграрном секторе, является основным земельным собственником[25]. Сохраняются «ножницы цен» на сельскохозяйственные и промышленные товары. Несмотря на то, что Земельный кодекс РФ признаёт за гражданами и юридическими лицами право частной собственности на земельные участки (но не на землю), цены на землю искусственно завышены, а государственные субсидии выделяются прежде всего крупным производителям (агрохолдингам), а не фермерским хозяйствам. Как следствие, слой земельных собственников ничтожно мал[26]. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что из нашего исторического (колхозного) опыта сделаны не все необходимые выводы.
[1] Кондрашин В.В. Влияние коллективизации на судьбы России в XX веке // Российская история. 2018. № 4. С. 3–13.
[3] Коэн С. Бухарин: Политическая биография. М., 1988; Коэн С. «Вопрос вопросов»: почему не стало Советского Союза? М., 2011.
[4] Попов В.П. «Закон колхозной жизни – от личного к общественному». К 80-летию принятия Примерного Устава сельскохозяйственной артели // «Черные дыры» в российском законодательстве. Юридический журнал. 2015. № 4. С. 11–19.
[5] Данилов В.П. Создание материально-технических предпосылок коллективизации сельского хозяйства в СССР. М., 1957. С. 393.
[6] Там же, с. 398.
[7] Данилов В.П. История крестьянства России в XX веке: Избранные труды в 2-х ч. М., 2011. Ч. 1. С. 174.
[8] Данилов В.П. История крестьянства России в XX веке: Избранные труды в 2-х ч. М., 2011. Ч. 2. С. 705.
[9] Я разделяю мнение известного знатока социалистической системы, выдающегося учёного Я. Корнаи о том, что «концепция, сама по себе, остается позитивным, дескриптивным понятием, свободным от оценок… Речь здесь идет об общих моделях реальных исторических структур» (Корнаи Я. Силою мысли: Неординарные воспоминания об одном интеллектуальном путешествии. М., 2008. С. 402). Это значит, что если учёные договорились о значении слова, между ними возникает диалог.
[10] Левин М. Советский век. М., 2008. С. 126–132.
[11] Крестьянство и власть в истории России XX века. Сборник научных статей. Вып. 2. М., 2011. С. 130–234, 347–348.
[12] Литошенко Л.Н. Социализация земли в России. Новосибирск, 2001. С. 187–189.
[13] Там же, с. 198.
[14] Кондрашин В.В. Влияние коллективизации на судьбы России в XX в. // Российская история. 2018. № 4. С. 3–13.
[15] Сто сорок бесед с Молотовым: из дневника Ф. Чуева. М., 1991. С. 383.
[16] Весной 1941 г. число «политически неблагонадёжных советских людей», поставленных органами НКВД на оперативный учёт, составляло 1,263 млн человек (Исторические чтения на Лубянке: XX лет. М., 2017. С. 197).
[17] Критические заметки о плане развития народного хозяйства // Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М., 1989. С. 135–169.
[18] Литошенко Л.Н. Социализация земли в России. Новосибирск, 2001. С. 315.
[19] «Первая заповедь»: Хлебозаготовки в СССР. 1931–1932 / Отв. сост. В.В. Кондрашин. М., 2016.
[20] В качестве главных работ по проблеме укажем следующие: Голод в СССР. 1929–1934: в 3 т. / Отв. сост. В.В. Кондрашин. М., 2011–2013; Современная российско-украинская историография голода 1932–1933 гг. в СССР / Науч. ред. В.В. Кондрашин. М., 2011; Кондрашин В.В. Голод 1932–1933 годов: трагедия российской деревни. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2018.
[21] Специально по этой проблеме см.: Попов В.П. Паспортная система в СССР. 1932–1976 // Социологические исследования. 1995. № 8–9; «Изменения паспортной системы носят принципиально важный характер». Как создавалась и развивалась паспортная система в стране // Источник. 1997. № 6. С. 101–121.
[22] «Изменения паспортной системы носят принципиально важный характер»… С. 109.
[23] См., например: Бернстайн Г. Социальная динамика аграрных изменений. М., 2016.
[24] Поэтому нельзя согласится с высказанным в литературе мнением, что колхозная система имела потенциал, который мог бы раскрыться, если бы реформы продолжались (См.: Современное крестьяноведение и аграрная история России в XX веке. М., 2015. С.289).
[25] Государственный (национальный) доклад «О состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2016 году». М., 2017. С. 41.
[26] В современной литературе отмечается, что государственная политика создания крупных агрохолдингов имела как долговременная стратегия негативные социальные последствия: блокировалось развитие фермерских хозяйств и шёл активный процесс «обезземеливания крестьян бывшего коллективизированного сектора аграрного хозяйства» (Дерюгина И.В. Аграрный сектор России: циклы и кризисы 1998–2009 годов // Вопросы статистики. 2010. № 3. С. 65–69).