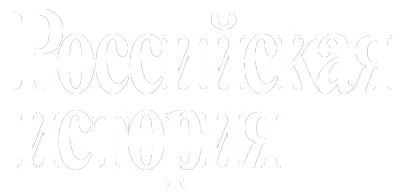Отклик на материал «Влияние коллективизации на судьбы России в XX в.» (№4/2018)
Справка об авторе: Михаил Аркадьевич Фельдман — д.и.н., профессор кафедры государственного управления и политических технологий Уральского института управления - филиала РАНХиГС (Екатеринбург).
Следует приветствовать усилия редакции журнала «Российская история» по выпуску номера (№4 за 2018 г.), в котором значительная часть материалов посвящена различным аспектам коллективизации. Но если три статьи (Х. Окуды, Г.Е. Корнилова и В.П. Попова) адресованы конкретным сюжетам аграрной истории советской деревни, то публикация В.В. Кондрашина[1], открывшая тематический раздел, претендовала на куда большее: «осмысление феномена коллективизации» и его влияния на судьбы России в XX в. Трудно не заметить такой замах. Ещё труднее ‒ пройти мимо выводов, цель которых ‒ опровержение «неверных суждений», наработанных отечественной исторической наукой в последнее десятилетие прошлого и первое десятилетие нынешнего века.
Казалось бы, отдавая дань «подвижнической деятельности аграрного сектора Института российской истории РАН под руководством В.П. Данилова и его коллег из российских регионов и зарубежья», автор повторяет те положения, которые в ходе упорных дискуссий в научной литературе стали незыблемыми: о насильственном характере коллективизации и её трагических последствиях для миллионов крестьян; об общей трагедии народов бывшего СССР в период раскулачивания и голода 1932–1933 гг.; об осуществлении сталинской группировкой антикрестьянской аграрной политики с её «ставкой на насилие ради выкачивания из деревни средств на проведение форсированной индустриализации», которая вызвала «глубокий кризис сельского хозяйства и голод, унёсший жизни миллионов крестьян».
Однако далее делается разворот по «полной программе»: у сталинской коллективизации не было и не могло быть альтернатив.
Всмотримся в аргументацию. Во-первых, из неблагоприятных природных условий, низкого уровня агрокультуры и небольшого объёма совокупного прибавочного продукта, создававшегося крестьянством, вытекала неизбежность крепостного права и дальнейшего усиления самодержавия. Правда, тут же звучит показательная оговорка: государству требовались очень жёсткие меры, чтобы получить средства для своих нужд, прежде всего материального обеспечения дворянства и бюрократии. Не заметив смысла оговорки, автор продолжает: те же причины обусловили и «неизбежность «второго крепостного права большевиков», а именно «необходимость в условиях Центральной России максимальной концентрации рабочей силы и проведения земледельческих работ в кратчайшие сроки».
Далее следует разрыв с «устаревшей» концепцией Данилова, построенной на «возможности использования крестьянской кооперации как мотора преодоления стагнации сельского хозяйства в конце 1920-х гг. и создания условий для успешного проведения индустриализации без жертв и потрясений», но слабо учитывавшей процессы бюрократизации и огосударствления кооперативного движения. Ещё одна составляющая аргументации – утверждение о реальности военной угрозы для СССР накануне и в период коллективизации. Доказательством безальтернативности «великого перелома» стал и такой тезис: накануне коллективизации в советской деревне возник значительный слой молодых крестьян, связавших свою судьбу с сельским комсомолом, Советом, сельской ячейкой большевистской партии.
По логике, ряд приведённых выше объективных факторов должен был подвести автора к генеральному выводу: природно-географический фактор и ему сопутствующие – «несомненная причина развития страны по пути создания крупного сельскохозяйственного производства», т.е. коллективизации. Но объективные причины внезапно отходят на второй план, когда Кондрашин заявляет: главным в резком повороте развития советской деревни «был внутренний фактор – победа сталинской группировки в борьбе за власть» Но это означает только одно: все приведенные выше объективные факторы не являлись судьбоносными.
Фактическим подтверждением этого стало обоснованное утверждение, что «колхозы и совхозы не справлялись с задачей продовольственного снабжения урбанизировавшейся страны», а в начале 1990-х гг. «надолго отторгнутые от реального участия в управлении производством и превратившиеся в обычных наёмных работников, развращённые бесхозяйственностью и безответственностью бывшие колхозники, не стали защищать ни колхозы, ни советскую власть, их создавшую». Резюме автора не оставляет сомнений: «Это был закономерный итог для строя, возникшего вопреки воле крестьян, основанного на принуждении, заточенного лишь на выполнение государственных задач и в самую последнюю очередь считавшегося с интересами тружеников».
Но обратимся к главному доводу ‒ о безальтернативности сталинской коллективизации. Вопрос об альтернативах развития СССР в конце 1920-х гг. на протяжении многих десятилетий остается в центре внимания отечественных и зарубежных историков[2]. После довольно короткого периода рассмотрения НЭПа как варианта эволюционного развития СССР, открывавшего дорогу индустриализации страны с меньшими жертвами населения и без резкого снижения уровня жизни большинства граждан[3], в первые десятилетия ХХI в. в исторической литературе всё более утверждался тезис о сталинском варианте модернизации как единственно возможном виде перехода от аграрно-промышленного типа экономики к промышленно-аграрному[4]. Поскольку главным предметным полем в этой дискуссии является вопрос о возможности (невозможности) советской деревни 1920-х гг. быть базой для осуществления индустриального рывка ‒ обратимся к двум монографиям, посвящённым этой проблеме, которые обратили на себя внимание уже одним фактом публикации в серии «История сталинизма» издательства РОССПЭН[5].
В монографии С.А. Есикова «Российская деревня в годы нэпа: К вопросу об альтернативности сталинской коллективизации (по материалам Центрального Черноземья)» сгруппированы основные хорошо известные доводы как раз в пользу «безальтернативности». Это, прежде всего, низкая урожайность; крайне малая доля способных вести рыночное хозяйство; высокий уровень налогов на зажиточных крестьян. К этим факторам автор добавляет низкую степень ориентации государственной промышленности на нужды деревни, а также неспособность правящей партии к эволюции ‒ перемене своих взглядов на НЭП[6].
Разделяя эти положения и ссылаясь на них, Кондрашин добавляет: «Реализация идей “правых” означала бы отказ власти от политической поддержки огромной массы активистов, включая сельскую бюрократию». Итоги сельскохозяйственных заготовок 1927 и 1928 гг., по мнению автора, только иллюстрируют однозначный вывод: «Можно с полной уверенностью сказать, что господствовавшее в годы нэпа крестьянское единоличное хозяйство достигло предела своего развития с точки зрения товарности и потребностей начавшейся индустриализации СССР»[7]. Аналогичное суждение высказывает и Есиков: «Необходимо признать, что к концу 1920-х гг. сельское хозяйство переживало период стагнации, находилось на грани кризиса… рынок четко показал, что идея быстрой индустриализации за счёт крестьянства при существующих условиях неосуществима». В результате «в развитии сельского хозяйства не было никаких альтернатив. Главная причина этого заключалась в нежелании правящей партии коммунистов “поступиться принципами”»[8].
Замечу, что вышеуказанные монографии не скрывают всех тяжёлых, разрушительных для советской деревни последствий коллективизации. В наибольшей степени это показывает труд самого Кондрашина:
- Коллективизация проходила без соответствующей технической базы. В 1928–1932 гг. совокупная мощность тракторов в СССР выросла с 0,27 млн лошадиных сил до 2,1 млн. Но даже с учётом этого совокупная тягловая сила в 1932 г. составила только 21–22 млн л.с. ‒ против 28 млн в 1928 г.[9];
- Сталинский вариант модернизации деревни проходил по лекалам Гражданской войны: фактически это была продразвёрстка. В условиях самого благоприятного в климатическом отношении 1930 г. в деревнях зачастую выгребались и продовольственные, и семенные фонды. При этом потери зерна при уборке урожая в колхозах составляли примерно 22% от валового сбора. В итоге в условиях масштабного голода из фондов государства пришлось вернуть деревне 75,4 млн пудов в виде семенных и продовольственных ссуд (на проведение посевной кампании)[10];
- Непродуманность коллективизации наиболее полно проявилась в игнорировании закономерностей не только внутреннего, но и внешнего рынка в годы мирового экономического кризиса. В результате в годы первой пятилетки СССР за экспорт главнейших товаров вместо 5426 млн руб. по плану получил лишь 3282 млн или 60% от планового показателя. При этом промышленность недополучила 1873 млн руб., в т.ч. 832 млн в одном только 1932 г. Всего за 1930–1933 гг. из СССР в Европу было вывезено свыше 12 млн т хлебных культур. Выручка от их продажи составила 442,1 млн руб. или 20% от всей выручки за экспорт[11];
- «Великий перелом» сопровождался массовыми репрессиями. Из примерно 4,5 млн арестованных в 1923–1940 гг. по линии ОГПУ 1,7 млн являлись крестьянами. По социальным категориям они делились следующим образом: 866 тыс. ‒ кулаки; 251 тыс. ‒ середняки; 107 тыс. – бедняки и батраки; 230 тыс. ‒ колхозники и рабочие совхозов[12];
- По верному замечанию Кондрашина, «кулак» времён НЭПа не был похож на своих предшественников: «Это был большой труженик, пользовавшийся уважением односельчан. Его поддерживала и советская власть, называя крестьянином-культурником, крестьянином-опытником. Нэповские кулаки представляли собой инициативных, предприимчивых крестьян, ведущих хозяйство с применением передовых агротехнологий». Тем не менее, отмечает автор, «начиная с 1928 г. кулаков стали экономически обескровливать (усиление налогового гнёта, лишение кредитования и машиноснабжения, чрезвычайные меры и т.д.). Т.е. на зажиточного, крепкого трудолюбивого крестьянина сталинская пропаганда наклеила ярлык, был создан идеологический миф о кулаке ‒ злобном враге советской власти, призванный обосновать сталинскую теорию «ликвидации кулачества как класса на основе сплошной коллективизации»[13];
- Однако самым тяжёлым проявлением коллективизации стали жертвы голода 1932–1933 г.: погибли 5,6 млн крестьян, в т.ч. 2.5 млн на Украине[14].
Близкие к этим оценки содержатся и в книге Есикова, приводящего мнение американского историка-экономиста Хантера (представленное в виде компьютерной модели альтернативной экономической истории СССР 1928–1940 гг.): при продолжении развития сельского хозяйства в нэповском формате экономический вклад деревни был бы выше, а численность крестьян ‒ на 15 млн человек больше. Казалось бы, преимущества сохранения многоукладности сельского хозяйства очевидны. Но Есиков указывает на «непреодолимое», по его мнению, препятствие: «Продолжение политики, проводимой в 20-е годы, означало бы более или менее безболезненный для непосредственного производителя путь. (Но) это был вариант медленного экстенсивного роста сельского хозяйства, которое поглощало бы практически все трудовые ресурсы страны»[15]. Насколько верен такой вывод? Насколько справедливо суждение, что у кровавого пути сталинской коллективизации действительно не было альтернатив? На мой взгляд, существует ряд факторов, опровергающих подобные утверждения.
Во-первых, тезис о «нежелании правящей партии коммунистов поступиться своими принципами» дезавуируется дискуссиями на апрельском и июльском пленумах ЦК ВКП(б) 1928 г., в которых победу одержали сторонники НЭПа[16]. В открытом многодневном обсуждении курс «чрезвычайных мер» был осуждён большинством участников этих форумов, а предложенное А.И. Рыковым и Н.И. Бухариным использование экономических рычагов для решения проблемы хлебозаготовок нашло понимание у большинства членов ЦК[17]. Ноябрьский пленум прошёл в равной борьбе[18].
Во-вторых, все варианты первого пятилетнего плана, обсуждённые на пяти съездах плановых работников (госпланов) СССР в период 1927 ‒ апреля 1929 гг., предлагали сохранение в той или иной степени многоукладной экономики[19]. Анализ этих дискуссий и сопоставление их с полемикой на апрельском и июльском пленумах ЦК показывают не только степень давления на развитие экономической мысли со стороны сталинской фракции[20], но и обратное воздействие учёных на взгляды части партийных функционеров[21].
В-третьих, Есиков не подтверждает свой тезис, что «крестьяне, особенно зажиточные, во второй половине 1920-х гг. были сильно обременены налогом». Если принять во внимание, что «революция освободила крестьян от больших платежей за арендованную и купленную землю, достигавших в среднем 3,53 руб. в год, то послереволюционные налоги нельзя признать более тяжёлыми»[22]. В таком случае увеличение налогов в 1927–1928 гг. на зажиточных крестьян, а также на середняков, составлявших 71% населения деревни, не представляется критичным.
В-четвёртых, известное и широко распространенное в научной литературе положение о том, что «господствовавшее в годы нэпа крестьянское единоличное хозяйство достигло предела своего развития с точки зрения товарности и потребностей начавшейся индустриализации СССР»[23], рассматривается, как конечный результат развития сельской экономики[24], а не как следствие целого ряда ошибок советских руководителей в 1925–1927 гг. Так, государственные цены на хлеб, уже слишком низкие в сентябре 1927 г., были понижены ещё на 3–5%[25]. В результате непродуманных действий произвольно заниженные цены на закупки зерновых культур деформировали хлебный рынок и процесс хлебозаготовок. Трудности существенно усугубились паникой на рынке из-за надуманной, инсценированной сверху военной тревоги[26]. Роль паники признавали и некоторые советские деятели: нарком торговли А.И. Микоян и секретарь МК Н.А. Угланов объясняли хлебную стачку, среди прочих причин, ожиданием войны[27].
Сталин же интерпретировал хлебный кризис как кулацкий саботаж и ответил на него принудительными реквизициями. Невзирая на суровый нажим, хлебозаготовки 1927–1928 гг. упали на 12% по сравнению с 1926–1927 гг. Сказались также явно недостаточное внимание к развитию всех видов кооперации; отмеченный современниками фактор целенаправленного запугивания крестьян неизбежностью новой войны[28]; прекращение с осени 1927 г. практики совместного участия государственных организаций и частных фирм в хлебозаготовках[29]; негативное отношение к зажиточным крестьянам.
Тем не менее, в научной литературе, в вариантах первого пятилетнего плана, статьях и речах Рыкова и Бухарина содержались предложения по преодолению препятствий на пути развития деревни. Та стратегия, которую ученые-экономисты в Госплане (сотрудники Г.М. Кржижановского) и вне его выстроили в рамках сбалансированных (в рамках отраслей и регионов; капиталовложений и рабочей силы) проектов плана, позволяла за счёт средств кооперации, налогов с частного сектора, займов у населения, внешних кредитов, режима экономии изыскать средства для индустриализации даже при всех несомненных трудностях финансового характера[30]. «Нам нужен внешний кредит на 1,5 млрд руб. … Можем рассчитывать только на 700 млн», ‒ говорил на ноябрьском пленуме ЦК 1928 г. Крижановский[31], словно опровергая тезис некоторых партийных вождей, заявлявших о финансовой блокаде СССР. Проект плана предусматривал рост товарной продукции сельского хозяйства с 2990 млн руб. до 5300 млн. по отправному варианту и до 6400 млн ‒ по оптимальному[32]. Таким образом при сохранении нэповской модели крестьянство могло за счёт развития кооперации, сельскохозяйственного машиностроения и т.п. нарастить товарную продукцию сельского хозяйства на 2,4 – 3,5 млрд. руб.
Расходы на небольшое повышение закупочных цен на зерно (на 5%), на закупки сельхозмашин окупались бы во многом за счёт оборотных средств кооперации, составлявших около 760 млн руб. О возможностях кооперации говорил и такой факт: если в 1926/27 г. кооперация имела собственных средств в обороте 36,5%, а заёмных ‒ 63,5%, то спустя год ‒ соответственно, 63% и 37%[33] . За счёт займов у населения (добровольных по форме и во многом обязательных в реальности) планировалось привлечь 2,2 млрд руб. Ещё миллиард должна была дать эмиссия банковских билетов[34]. О реальности этих планов говорит такой факт: за июль-октябрь 1929 г. по третьему займу индустриализации государство получило 750 млн руб. ‒ существенно больше, чем планировалось[35] . Даже с учётом того, что печатный орган ВКП(б) на 10% завысил данные, собранные по третьему займу 671 млн руб.[36] были весьма большой суммой.
Понимало это и советское руководство: если по проекту плана, принятому в апреле 1929 г., предполагалось за счёт займов привлечь 2,2 млрд руб.[37], то в реальности за пятилетие эта сумма была близка к 12 млрд или примерно 10% от доходов госбюджета. Всего же привлечённые средства населения составили 21,5 млрд руб. или 17,9% от доходов бюджета. За 1927‒1932 гг. объём средств, мобилизованных в бюджет при помощи налогов и сборов с населения и государственных займов, увеличился почти в 4,3 раза[38]. Из резерва на трудную минуту государственные займы превратились в обильный источник плановых бюджетных доходов[39].
Аккумуляция всех этих средств в руках государства выдвигала на первый план задачу рационального и умелого их использования.
Сохранение индивидуального крестьянского хозяйства, отмечал С.Г. Струмилин, позволяло получить в виде налогов и займов 3,9 млрд руб., в т.ч. 2,1 млрд руб. от «кулаков», 1,8 млрд от середнячества. Около 300 млн из этой собранной суммы должно было быть перераспределено для укрепления бедняцких дворов[40]. Сопоставление этих цифр с тем, что реально получило государство от продажи зерна за годы первой пятилетки ‒ 442,1 млн руб. (из общей выручки за экспорт 3282,6 млн) вместо 5426 млн за экспорт главнейших товаров по плану[41] ‒ убедительно доказывает: коллективизация не принесла необходимых для индустриализации валютных резервов. НЭПовская экономика же могла дать необходимые резервы при верной регулировке.
Речь идёт о тех инструментах экономического регулирования, которые были изложены в трудах учёных-экономистов[42] и в той или иной степени вошли в варианты первого пятилетнего плана. Характерно, что Есиков дает высокую оценку «кооперативной коллективизации» А.В. Чаянова, определяя её в качестве «организации всех отраслей, работ и функций крестьянского хозяйства в той степени крупности и на тех социальных основах, которые к нему подходили», позволяющей «провести безболезненную перестройку аграрного сектора»[43].
Следует заметить: при раздвоенности векторов развития большевизма и советского государства ‒ рационально-технократического, базирующегося на европейской традиции, и утопического[44] ‒ жизненная практика в каждой конкретной ситуации постоянно заставляла представителей руководства занимать прагматические либо теоретико-догматические позиции. Стремление получать внешние кредиты от германских или британских банков[45], закупать машины и оборудование у американских или европейских монополий даже для Сталина и его сторонников было сильнее любых антикапиталистических лозунгов вплоть до 22 июня 1941 г. Доводы экономического прагматизма были понятны и провинциальным партийно-хозяйственным лидерам[46]. Так, развитие мелких кустарных промыслов, дающих до трети доходов хозяйствам бедных крестьян[47], могло рассматриваться как помощь сельской бедноте, а сохранение частной мелкой кустарной промышленности, обеспечивавшей две трети потребностей сельчан в бытовых товарах[48] ‒ как, выражаясь языком того времен, «смычка» города и деревни. При всей распространенности военно-коммунистической идеологии в ВКП(б) ход полемики на пленумах ЦК в 1928 г. доказывает: часть большевистской элиты оказалась способной к эволюции своих взглядов, к восприятию элементов прагматического видения экономики и социального развития без приоритета насилия.
Дискуссии на пленумах отразили два достаточно противоречивых подхода к реализации «советского проекта», но, несмотря на все усилия Сталина и его сторонников, их резолюции нацеливали на продолжение НЭПа как наименее конфликтного и наиболее эффективного пути модернизации страны; политики, направленной на возможно более быстрое развитие различных форм кооперации, взаимодействия секторов многоукладной экономики.
Особое место историки советской коллективизации отводят ноябрьскому (1929 г.) пленуму ЦК ВКП(б) ‒ месту и времени тяжёлого поражения «правых». На нём был вновь продемонстрирован сталинский метод, апробированный на пленуме в апреле: применение массированного социально-политического обмана (бездоказательных фальсификаций – например, о «создании в последнее время условий, необходимых для массового развития колхозов и совхозов»)[49], став главной причиной победы «ускорителей». Партийный форум, казалось бы, проходил по сценарию генерального секретаря ЦК ВКП(б). Однако неуверенность Сталина в благополучности его исхода отразил такой факт: работу пленума не освещала «Правда», только 18 ноября сообщившая о его проведении и принятых резолюциях.
Показательным для выступлений на пленуме можно считать сочетание иррационального и рационального в докладе председателя Колхозцентра Г.Н. Каминского «Итоги и дальнейшие задачи колхозного строительства». Заявление о «прогрессивно нарастающем темпе колхозного движения» было, на первый взгляд, подкреплено солидной статистикой: «По всему Союзу насчитывается 75 тыс. колхозов, в них 1900 тыс. хозяйств на площади в 8 млн га». Однако стройный ряд отдельно взятых индикаторов и идеологических конструкций явно нарушался при введении докладчиком средних общесоюзных показателей: «Плотность коллективизации по всему Союзу» не превышала 7,5%. Это означало, что, несмотря на «отдельные случаи нажима на крестьян»[50], политику «чрезвычайных мер», массированное использование агитационных методов, основная часть не только середняков, но и бедноты, на основах добровольности проигнорировала призыв к «ускоренной коллективизации».
Восьмидневный марафон пленума вместил профессионализм разработчиков первого пятилетнего плана, стремившихся сохранить своё детище; подчёркнутую сдержанность лидеров «правых», подвергавшихся с ноября 1928 г. постоянной травле, вынужденно признавших правоту сталинской фракции, но не отрёкшихся от своих взглядов; попытки отдельных членов ЦК не допустить превращения внутрипартийной дискуссии во фракционную вражду; фрагменты реальной картины советской экономики конца 1920-х гг. в выступлениях ряда хозяйственников и региональных лидеров. Представители большевистской элиты не могли полностью абстрагироваться от прежнего опыта и знаний, прежних партийных традиций, реалий социальной и экономической жизни. О каких реалиях речь? При всей очевидности слабой технической оснащённости сельского хозяйства к 1928 г. довоенный уровень урожайности и валовых сборов был достигнут[51]. Это позволяло за счёт развития всех видов кооперации и научных подходов к ценообразованию в хлебозаготовках добиться и увеличения закупок зерна, как это и было намечено в вариантах плана пятилетки. Анализ стоимости основных статей советского экспорта в 1926–1929 гг. позволяет сделать вывод: потери от сокращения поставок зерна на внешний рынок были с превышением компенсированы увеличением поставок нефти и леса, на которых приходилось 67% советского экспорта в 1926/27 и 86% в 1929 г.[52] Это означало, что отказ от коллективизации не привел бы к «замораживанию строек индустриального проекта». Концентрация усилий советского руководства на подлинном внедрении «режима экономии» на предприятиях позволила бы уменьшить остроту главной проблемы советской экономики ‒ нерентабельности государственного сектора.
Без сомнения, успех прагматиков во многом зависел от их способности сдержать диктаторские наклонности Сталина. Здесь потребовались бы не только убеждения и призывы к логике членов ЦК, но и организационные шаги по ограничению его полномочий. Прагматизм не был чужд марксистам в критические минуты их деятельности. По точному замечанию О.В. Великановой, анализ внешней политики СССР в конфликтных ситуациях 1927 г. показывает: «Пусть временно, но прагматические интересы государства оказались выше интересов Коминтерна»[53]. Если при этом осмысление практики сопоставлялось с доводами учёных, а понимание остроты положения сочеталось с готовностью к политическим действиям ‒ появлялась возможность пройти и через «бутылочное горлышко» истории.
В случае гипотетически возможной победы сторонников НЭПа остаются несколько серьёзных вопросов, в принципе ‒ отдельных тем для исследования.
Как восприняли бы сохранение новой экономической политики крестьянская беднота и малоквалифицированные рабочие ‒ социальные слои, менее всего выигравшие от неё? Мне представляется, что «вариант Чаянова» ‒ развитие всех видов кооперации и реализация запланированных вариантами пятилетнего плана мер помощи беднякам; программы по совершенствованию заработной платы, повышению общеобразовательной и технической подготовки; улучшение жилищного положения ‒ мог снизить остроту протеста малоимущих советских граждан.
Могли ли одобрить сохранение капиталистических отношений представители молодого поколения, принявшие революционные изменения за «начало новой эры»? Энергию молодежи можно было направить в образовательные программы всех видов, в индустриальные, культурные и спортивные проекты, в работу Осоавиахима.
Как восприняла бы сохранение НЭПа та часть партии, которая не рассталась с военно-коммунистической идеологией? Многое бы здесь зависело от гибкости пропагандистской системы: наряду с концентрацией усилий на улучшение условий труда и быта, акцент ‒ на патриотизм, лучшие национальные традиции.
Главный вопрос оппонентов: наращивание военно-промышленных программ в годы первых пятилеток потребовало бы привлечения дополнительных, значительных финансовых ресурсов, внедрения отдельных элементов мобилизационной экономики. Могла ли экономика НЭПа справиться с такими нагрузками? Весь опыт мировой истории, особенно китайский (последних 35 лет) говорит о необходимости повышения рентабельности предприятий. Убеждён: такой вариант был возможен в случае последовательного перевода предприятий и трестов на хозрасчёт, столь же последовательное углубление самого хозрасчёта.
Остаётся последний вопрос: как быть с Коминтерном ‒ организацией, подрывавшей внешнеполитическую безопасность СССР? У автора этих строк нет полного ответа на последний вопрос. Но отказ от подготовки политических революций и переворотов военным путём был возможен.
За стенами Кремля шла жизнь, которая явно не укладывалась в догмы марксистской теории. Внедрение сверху, принудительно командной экономики уродовало рынок, но не могло истребить его. Более того, командная экономика не могла существовать без рынка, ведь он выполнял важнейшие социально-экономические функции, не только паразитируя на плановом государственном хозяйстве, но и помогая ему выжить, компенсируя дефицит товаров и перераспределяя товарные ресурсы[54]. И в годы первой пятилетки, и особенно в середине 1930-х гг. соотношение утопического и индустриального проекта будет заново переосмысливаться многими из тех, кто в ноябре 1929 г. либо отмолчался, либо осуждал «правых»[55]. Рубеж преодоления открытого сопротивления части элиты был пройден. Начиналась эпоха сопротивления самой жизни сталинским скрижалям и долгого пути конкретных людей к прозрению.
[1] Кондрашин В.В. Влияние коллективизации на судьбы России в XX в. // Российская история. 2018. № 4. С. 3–13.
[2] См., например: Суворова Л.Н. Нэповская многоукладная экономика: между государством и рынком. М., 2013; Эрлих А. Дискуссия об индустриализации в СССР. 1924–1928. М., 2010.
[3] Данилов В.П. История крестьянства России в ХХ веке. Избранные труды: в 2-х ч. Часть 1. М., 2011. С. 17.
[4] См.: Кондрашин В.В. Хлебозаготовительная политика в годы первой пятилетки и её результаты (1929–1933 гг.). М., 2014. С. 22.
[5] Есиков С.А. Российская деревня в годы нэпа: к вопросу об альтернативности сталинской коллективизации (по материалам Центрального Черноземья). М., 2010; Кондрашин В.В. Хлебозаготовительная политика в годы первой пятилетки и её результаты.
[6] Есиков С.А. Российская деревня в годы нэпа. С. 202, 204, 205, 206, 210.
[7] Кондрашин В.В. Хлебозаготовительная политика… С. 18, 23.
[8] Есиков С.А. Российская деревня в годы нэпа. С. 201–202, 210.
[9] Кондрашин В.В. Хлебозаготовительная политика… С. 84.
[10] Там же. С. 48, 49, 81.
[11] Там же. С. 98–99.
[12] Там же. С. 27.
[13] Там же.
[14] Есиков С.А. Российская деревня в годы нэпа. С. 294–295.
[15] Там же. С. 206–207.
[16] См.: Фельдман М.А. Кем была одержана победа? К вопросу о результатах дискуссии на июльском (1928 г.) Пленуме ЦК ВКП (б) // Россия и современный мир. 2018. № 4. С. 169–184.
[17] Данилов В.П. Введение. Стенограммы Пленумов ЦК ВКП (б) 1928–1929 гг.: исторический источник в контексте эпохи // Как ломали НЭП. Стенограммы пленумов ЦК ВКП(б) 1928–1929 гг. В 5 томах. Т. 1. М., 2000. С. 6–14; Данилов В.П., Ватлин А.Ю., Хлевнюк О.В. Введение // Как ломали НЭП. Стенограммы пленумов ЦК ВКП(б) 1928–1929 гг. В 5 томах. Т. 2: Пленум ЦК ВКП (б) 4–12 июля 1928 г. М., 2000. С. 4–25.
[18] См.: Фельдман М.А. «Третье сражение» или вопрос о путях социально-экономического развития на Ноябрьском (1928 г.) Пленуме ЦК ВКП (б) // в печати.
[19] Перспективы развертывания народного хозяйства СССР на 1926/27 ‒ 1939/31 гг. (Материалы центральной комиссии по пятилетнему плану). М., 1927; Проблемы реконструкции народного хозяйства на пятилетие (пятилетний перспективный план на пятом съезде советов госпланов). М., 1929.
[20] См.: Гладков И.А. К истории первого пятилетнего народнохозяйственного плана // Плановое хозяйство. 1935. № 4. С. 115.
[21] Белянова А.М. О темпах экономического развития СССР: по материалам дискуссий 20-х годов. М., 1974. С. 23, 28, 29.
[22] Есиков С.А. Российская деревня в годы нэпа. С. 202.
[23] Кондрашин В.В. Хлебозаготовительная политика… С. 18.
[24] Есиков С.А. Российская деревня в годы нэпа. С. 207.
[25] Там же. С. 105.
[26] Авторы, изучавшие рассекреченные материалы Политбюро, придерживаются мнения, что никакой угрозы войны не было и сталинское руководство это понимало. Подобное утверждение подразумевает, что политика «военной тревоги» представляла собой сознательный и намеренный маневр властей ‒ Великанова О.В. Разочарованные мечтатели. Советское общество 1920-х гг. М., 2017. С. 58.
[27] Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939 . Документы и материалы. Т. 1. М., 1999. С. 34, 114–116, 160–167. См. также: Великанова О.В. Разочарованные мечтатели. С. 106.
[28] Голубев А.В. Советское общество и «военные тревоги» 1920-х годов // Отечественная история. 2008. № 1. С. 36–58.
[29] Есиков С.А. Российская деревня в годы нэпа. С. 204.
[30] Проблемы реконструкции народного хозяйства на пятилетие. С. 235–298.
[31] Как ломали нэп. Стенограммы пленумов ЦК ВКП (б). 1928–1929 гг. В 5 томах. Т. 3: Пленум ЦК ВКП (б) 16–24 ноября 1928 г. М., 2000. С. 54–55.
[32] Там же. С. 273.
[33] Там же. С. 199.
[34] Проблемы реконструкции народного хозяйства на пятилетие. С. 456–457.
[35] Правда. 1929. 6 ноября.
[36] Пинаев С.М. «Займы индустриализации» конца 20-х годов и особенности их реализации // Вестник Тамбовского государственного университета. 2011. Вып. 8. С. 294.
[37] Проблемы реконструкции народного хозяйства на пятилетие. С. 456–457.
[38] История социалистической экономики СССР (в 7 т). Т. 3. М., 1977. С. 170, 473, 482.
[39] Черемисинов Г.А. Использование резервов экстенсивного роста государственного предпринимательства в СССР (1926/27 ‒ 1928/29) // Экономическая история. Ежегодник. 2006. М., 2006. С. 323–365.
[40] Проблемы реконструкции народного хозяйства на пятилетие. С. 159–161.
[41] Кондрашин В.В. Хлебозаготовительная политика… С. 99.
[42] См., например: Базаров В.А. О методологии построения перспективных планов // Плановое хозяйство. 1926. № 7. С. 12–21.
[43] Есиков С.А. Российская деревня в годы нэпа. С. 230.
[44] Булдаков В.П. Октябрьская революция как социокультурный феномен // Россия в ХХ веке. Историки спорят. М., 1994. С. 160, 162.
[45] См.: Кантор Ю.З. Заклятая дружба: секретное сотрудничество СССР и Германии в 1920–1930-е годы. СПб., 2009.
[46] Кислицын С.А. Председатель Совнаркома Советской России Сергей Сырцов: из истории формирования антисталинского сопротивления в советском обществе. М., 2014; Фельдман М.А. Восприятие нэпа региональной элитой в конце 1923 г. // Вопросы истории. 2016. № 12. С. 29–39.
[47] Есиков С.А. Российская деревня в годы нэпа. С. 162–165.
[48] Там же. С. 204.
[49] Как ломали Нэп. Стенограммы пленумов ЦК и ЦКК ВКП(б). 1928–1929 гг. В 5 томах. Т. 5: Пленум ЦК ВКП(б). 10–17 ноября 1929. С. 43.
[50] Там же. С. 278, 279, 287.
[51] Там же. С. 205.
[52] Внешняя торговля СССР за 1918–1940. М., 1960. С.14, 18, 58, 67, 94, 104.
[53] Великанова О.В. Разочарованные мечтатели. С. 95.
[54] Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927–1941. М., 2008. С. 13.
[55] См.: Фельдман М.А. Две тенденции государственной экономической политики в середине 1930-х гг., или пять дней из жизни Г.К. Орджоникидзе // Экономическая история. Обозрение. № 15. М., 2011. С. 86–95.